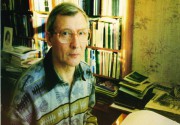Сегодня ему исполняется 75. Его работоспособности могут позавидовать двадцатилетние. Только за последний год подготовил к изданию две книги по истории родного края, каким является для него Югра.

Курс ЦБ РФ
сегодня USD78.8354EUR93.0103
| Погода на завтра | ||
|---|---|---|
| Тюмень | +24...+26 °C | |
| Ханты-Мансийск | +25...+27 °C | |
| Салехард | +19...+21 °C |
Культура
Дед. Мачо. Архимед…
Валерий Белобородов. Впервые мы с ним столкнулись лет двадцать назад.
Я тогда работал в сургутском издательстве «Северный дом» ведущим редактором отдела художественной литературы. Во время командировки в Ханты-Мансийск мне предстояло встретиться с Любовью Чистовой: она тогда предложила издательству свои первые детективные повести под названием «Мы, нижеподписавшиеся…». Рукопись ее книги лежала у меня на рабочем столе. Предстояло согласовать некоторые детали…
Версты и строки
В свободную минутку заглянул в журнал «Югра». Посидел у стола тогда только начинавшего прозаика Коли Коняева. Коля нарассказывал всяческих страхов о своем начальнике, редакторе Валерии Белобородове. Потом я как-то пытался общаться с Белобородовым, но мне показалось, что я ему не интересен.
Хотя и видел его только один раз, мельком, для меня Валерий Константинович долгое время оставался человеком в футляре: зажатый в костюм, стремящийся уйти от предстоящего, явно пустого и никчемного, с его точки зрения, разговора, по неотложным делам службы.
Когда у меня появилось свое издательство, не помню, чтобы мы часто общались. Книги с его фамилией на обложке выходили в свет. Некоторые из них я даже верстал, но по всем проблемным вопросам общался все-таки с его единомышленником Татьяной Владимировной Пуртовой, которую всегда хотелось назвать краеведческой женой Валерия Константиновича.
Первое профессиональное восхищение коллегой у меня появилось после выхода в свет книги Г.М.Дмитриева-Садовникова «Версты и строки», в подготовке которой принимал участие В.К. После этого издания я стал понимать, что гуманитарная среда тюменцев сколочена гораздо слабее. При наличии кучи университетов и академий мы не способны пока на такое чудо. То ли некому, то ли материала подходящего нет. Самому захотелось выпрыгнуть из собственных штанов и сделать хотя бы нечто подобное. Кстати, всем книгам, которые Белобородов издал не у меня, я всегда завидовал. Может, потому, что меня лишили возможности еще раз пообщаться с большой местной знаменитостью.
Когда появился краеведческий журнал «Лукич», он начал писать в него. Сегодня я понимаю: мэтр пытался поддержать нас рукописью, еще одним автором. В конечном итоге, всегда нужна моральная поддержка человеку, дело которого редко у кого вызывает интерес (позже я узнал, что у В.К. часто бывают мучительные приступы такого же чувства собственной ненужности). Твердый (но не острый!), пусть даже «телефонный», локоть придавал мне уверенности.
Летучий как эфир
А мудрость «деда» (кажется, его так назвал Александр Петрушин) заставляла прислушиваться. Так в моем журнале появились «непрофильные» для Тюмени темы: не опубликованные до того времени рукописи Г.М.Дмитриева-Садовникова и М.С.Знаменского из РГАЛИ, выдержки из дела М.П.Плотникова, который сумел выдрать для нас знакомый кагебист-краевед. История Тобольского Севера расправляла крылья журналу, способствовала его популярности… Я спокойно относился к тому, что реализую, по сути, чужие идеи.
Летучий, как эфир, Белобородов объединялся в самые немыслимые для меня компании. «Тобольский Север глазами политических ссыльных» — с одним знатоком края, «Версты и строки» — с другим… Однако своему постоянному соавтору Пуртовой он иногда изменял…
Можно было издать «Сибир-ский листок», я мог найти деньги на это. Но Белобородов знал, как они достаются, и нисколько не просил о «Сибирском листке». Так же неназойливо делился идеей, показывал листочки с планом того, какими он видел будущие книжки тобольской газеты конца XIX — начала XX века. Понимал, что с деньгами сложно. Хотя в финансовых вопросах был страшно щепетилен и обговаривал их в деталях накануне каждого общего проекта. При этом подчеркивал, что доверяет издателю, а сам ничегошеньки, мол, в этом не понимает.
Затевая «Сибирский листок», я грязно поругивался: нахальство северян беспредельно! Издавать книгу о своем крае на деньги тюменцев (проклятый сепаратист; это я о себе) и не думать нисколько, что тема нынешнего областного центра все-таки существовала и в костюринской газете (Виктор Костюрин — издатель, выпускавший «Сибирский листок» с 1890 по 1919 год). Перекраивал его проект. Делал из чужого замысла какую-то мешанину. Втискивал в его идею мою странную Тюмень. Ту самую Тюмень, что умудрилась до сего времени, даже пользуясь нефтяной и газовой славой, не попасть ни в одну из обойм: вроде бы и не Урал, но еще и не Сибирь… В.К. смотрел на это со стороны так, словно и не его ребенка пытаются изнахратить. Понимал: ради дела надо терпеть.
На мели
Проект «Сибирского листка» посадил издательство практически на мель. Когда два тома уже были сданы в печать, удалось договориться, что какое-то количество экземпляров у нас купят северяне. Занимаясь в издательстве всем: от верстки и управления пусть небольшим, но коллективом, до читки рукописей, — я прозевал вопрос себестоимости. Предложил купить по одной цене, но исходя из сложившейся ситуации сильно изменил ее, увеличив практически в два раза при заключении договоров. Деньги за проданные первые два тома помогли завершить проект. Но вместе с ушедшими со склада издательства двумя наименованиями ушли из-за моего, так сказать, «непостоянства» и покупатели. Последние три тома оказались невостребованными, несмотря на фамилии якобы благотворителей, значащиеся на странице, открывавшей проект.
Торопил я завершение пятитомника по одной причине, указывая ее в «Слове издателя» так: «…никто, кроме Валерия Белобородова, не может сделать такую титаническую работу. Но ему шестьдесят пять (так хочется сказать: еще только шестьдесят пять) — и сердце, пережившее на своем веку столько…».
При этом работа была сделана основным составителем на энтузиазме, без каких-либо авторских вознаграждений со стороны издательства.
Я не плакался своему коллеге о том, что после такого проекта, который удалось одолеть за один год, практически иду ко дну. Я думаю, В.К. сам каким-то образом узнал об этом. Может, догадывался. И старался меня поддержать. В том числе и финансово. Подсказывал, где можно найти заказ на издание книги. Иногда посредничал, зная о моем неумении просить. И ни слова о том, что знает о моих истинных делах.
Его проекты активно поддерживали сургутяне. Не удивительно, ведь это город, в котором В.К. заканчивал школу. Иногда и ко мне здесь были благосклонны: как-никак, постоянно сотрудничаю с самим Белобородовым! Я себя не чувствовал при этом захребетником у известного югорского краеведа… Но каждый раз, встречая в коридоре администрации города Сургута «культурного» начальника Якова Черняка и слыша его громкое: «Мандрика, может, тебе денег дать?», уверенно отвечал: «Своих хватает».
Объединяющий «Подорожник»
С появлением «Подорожника» общаться с Валерием Константиновичем мы стали чаще. Но опять-таки по телефону. Что не помешало нам понять: делаем общее дело. Иногда бегал у него в помощниках. Привозил какие-то материалы для его нового краеведческого проекта. Даже кое-что ставил в номер без согласования с ним (так было, например, с легендами, записанными березовским учителем А.Деминым, позже редактором омской газеты). В.К. терпел и молчал. Даже от такой помощи не отказывался. Правда, после моих фокусов старался сдавать в набор рукопись альманаха целиком, с написанным на отдельной страничке содержанием…
Существует такое понятие — «акрибия». Тщательность. Он в эту тщательность был погружен с головой. После верстки и читки «Подорожника» корректором брался за гранки сам. Доделывал все за нами — и молчал. Он был старше, опытнее, мудрее. А мы всегда мучились: «Лучше бы отругал».
Иногда мне не удавалось строить отношения с людьми легко. И не всегда я был прав в очередной сложной для меня ситуации. Но никогда В.К. не заводил об этом разговор первым. Когда же я пытался использовать его в качестве жилетки, оказывалось, он уже знал об очередных ухабинах на дороге моей жизни. При этом даже не брал демонстративно чью-то сторону. Во всяком случае, я замечал: обидеть человека своим «другим» мнением он просто не умел…
Радовался, когда с его подачи я обнаружил Эву Фелиньскую на польском, привез ксерокопии из БАНи. Воспоминания ссыльной, которая провела некоторое время в Березове, переводила профессор Ольга Трофимова. В.К. открыл этой работой шестой номер «Подорожника». И страшно гордился удачей издания.
Дед в авторитете
Он весь был в работе. Практически ни одному году не давал отдохнуть от очередной своей книжки. У него всегда можно было получить биографические данные о любом человеке, попавшем в его картотеку.
Валерий Константинович был авторитетен в кругу историков-сибиреведов, несмотря на свою точку зрения, которая, думаю, должна была казаться последним почти экстремизмом. Обращаясь к документам прошлого, В.К. был убежден: они рисуют нам «живую, достоверную картину повседневности, даже если в чем-то и тенденциозную, то не в такой степени, как в трудах историков…»
При уважительной официальной атмосфере, царившей вокруг имени Белобородова, приходилось иногда удивляться отношению к нему отдельных «культур-трегеров», чрезмерно уверенных в своем высоком праве вершить судьбы людские. В том числе и его, В.К.
Как-то в Хантах готовы были профинансировать издание книги, посвященной очередной годовщине Победы. Бывший кладовщик, выросший благодаря своим женским качествам до уровня клерка, искала подходящий под имеющиеся деньги проект. Я знал: в столе у В.К. есть письма фронтовиков (они позже появились в «Подорожнике»). Поделился этой информацией с собеседницей. Она с важностью, характерной для вахтеров и уборщиц, предложила передать краеведу, чтобы тот написал, каким видит проект. Меня возмутила выходка девицы, мало чего смыслившей в краеведении, и не только в нем: «Это тот самый случай, когда деньги дают под имя. Репутация краеведа внушает уверенность…»
Еще более убийственный случай произошел при издании тома «Ханты-Мансийск» в серии «Тобольск и вся Сибирь». Договорившись с Валерием Белобородовым, что составителем будет он, инвестор, в конечном итоге, решил сделать его мальчиком на побегушках у москвича, приглашенного для той же роли, что изначально предлагалась В.К. Краевед переживал это недоверие молча… По сути, это была незаслуженная публичная пощечина ему… Кто лучше Валерия Константиновича знает этот край?!
…Мы ни разу не были с ним на рыбалке или охоте, не парились в бане, не было у нас общих запоминающихся застолий. Если было у нас что общее, так это работа, позволявшая обоим жить в огромном безбрежном мире краеведения, изредка пополняя его своими открытиями…
Я сдавал чью-то очередную «нетленку», увольнял себя в который раз с работы, уматывал с насиженного места в поисках очередного приключения, наезжал на очередного нерадивого автора в печати... А он все работал над своими проектами. Тихо, незаметно, без пиара и особых фанфар. Человек, защитивший себя от внешнего мира своим костюмом, как футляром…
Вспоминался главный герой «Плодов земли» Кнута Гамсуна. Расчищал лесную делянку под пахоту, сажал плоды для своего пропитания, оплачивал косметологическую операцию жене, бил ее, если изменяла, снова засаживал пахотное поле и шел к своей бабе, чтобы та его кормила. Мачо, на котором всегда держался мир…
Его очаг
Недавно издавали И.М.Воропая — «От реки Оби до Северного океана». Об авторе ничего не известно. Мне удалось созвониться с пермским краеведом, которая радостно сообщила, что она все о нем знает. Дед с живостью в голосе отреагировал на мою удачу: «Это возбуждает». И добавил иронично: «Это последнее, что возбуждает».
Со стороны его жизнь мне кажется размеренной. И соразмерной. Дети, живущие рядом, — Алексей и Надежда. Две внучки, Ксюха и Даша, которых он любит. Дача, где В.К. хочет чувствовать себя если не Паустовским, то самим собой, не зависящим от внешнего мира, в том числе и от власти. Милая жена, которую и дома, и при гостях всегда называл Валентиной Андреевной. И очаг в виде окружной библиотеки, у которого он всегда сверял свои планы, где ему всегда верили и поддерживали как могли.
Громадье планов, в том числе и тех, которые не удалось ему выполнить к собственному 75-летию. Надо подготовить к изданию материалы к третьей редакции книги «Самарово», которую Х.Лопарев так и не осуществил. Начали набираться в очередной «Подорожник» новые материалы. Чертова дюжина — то есть еще один этап, хотя в нумерологию В.К. не верит.
В последнюю свою недавно вышедшую книгу «Обитаемое прошлое», поданную как рассказы о негромких приключениях, он хотел поместить воспоминания о своей самой большой удаче — журнале «Югра». Черно-белом, тоненьком, еще на металлической скрепке… Журнале, уверенно перевернувшем краеведческий мир Сибири. Как он и кем создавался, когда начал обрастать мифами…
Автор рукописи вдруг осознал, что пока еще не готов сказать миру всю правду. Разве что к своему 85-летию… А может, еще на пяток лет попозже…
Внутри деда еще шумят бури, вырваться наружу которым никогда не позволяет твердый характер мачо.
Статьи по теме
Новости
09:05 29.11.2013Молодёжные спектакли покажут бесплатноСегодня в областном центре стартует V Всероссийский молодёжный театральный фестиваль «Живые лица», в рамках которого с 29 ноября по 1 декабря вниманию горожан будут представлены 14 постановок.
08:58 29.11.2013Рыбные перспективы агропромаГлава региона Владимир Якушев провел заседание регионального Совета по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
08:49 29.11.2013Ямалу — от ПушкинаГлавный музей Ямала — окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского — получил в свое распоряжение уникальный экспонат.
Опрос
Блоги
Серафима Бурова
(24 записи)Хочется мне обратиться к личности одного из самых ярких и прекрасных Рыцарей детства 20 века - Янушу Корчаку.
Наталья Кузнецова
(24 записи)Был бы язык, а претенденты на роль его загрязнителей и «убийц» найдутся.